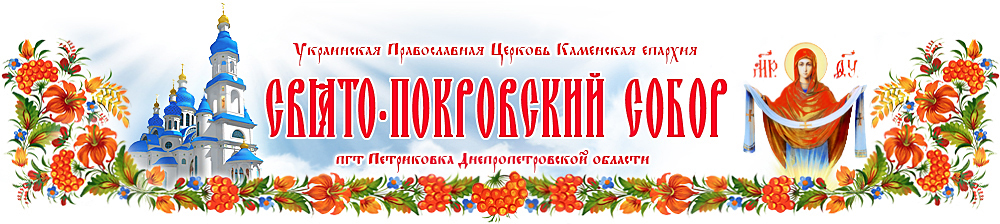| Соловки открыл монах Савватий,
Был тот остров неустроенный пустырь.
За Савватьем шли толпы черных братий...
Так возник великий монастырь!
Но теперь совсем иные лица
Прут и прут сюда со всех сторон.
Здесь сплелился быль и небылица
И замолк китежный древний звон...
Но со всех сторон Советского союза
Едут, едут, едут, без конца.
Все смешалось: фрак, армяк и блуза...
Не видать знакомого лица!
|
Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда
прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии.
Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху,
под опаленными, закопченными сводами древней храмины мутно желтело
несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарений от мокрой одежды и
дыхания сбитых в сплошную кучу двух тысяч человек, неясно
вырисовывались столбы тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод
колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них – густая, растекающаяся,
как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа.
– Как черви в гнилом падле… Вам приходилось видеть? – спросил мой
спутник по поиску знакомых среди новоприбывших, в прошлом земский
ветеринар. – В таком месиве и брата родного не угадаешь. Все на одно
лицо. Вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей…
Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных
шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых
четырехгранных колонн было тише, хотя сгусток безликих человеческих тел
там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины,
а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в глинистой осыпи,
голос:
– Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали? – сказал мой спутник.
– Записал даже пару. Хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил – все на один лад.
Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей.
– И дошел, – ликующе воскликнул кто-то, – дошел всё-таки! В язвах
весь… в струпьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил, – место там
каменистое, босому плохо. А всё-таки дошел до дому и стал на коленки…
Вот! Завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня, на этом
столбе весь вырисован. На коленках стоит – это сын, а руки вверх поднял –
это отец. Paдуется, значит, и Господа благодарит.
– Есть за что благодарить, – отозвался другой голос, – пропойца,
сукин сын, обормот, – загрохал он увесистыми булыжниками. – Такого надо
поганой метлой от порога гнать!..
– Вот и нет, – всплеснул в ответ ручеек, – совсем даже по-другому
вышло. Отец-то велел самого первого во всем стаде телка зарезать, гостей
позвал, чтобы все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал,
как полагается, и показывает гостям, – добавил он полушепотом. – Вот он,
глядите! – ликующе выкрикнул первый голос. – Вот он у меня какой! Везде
побывал; сквозь огонь, воду и медные трубы прошел; какой только грязи
не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился! К отцу
своему! Как из мертвых воскрес. В том и радость великая…
– Это по Писанию, конечно, так выходит, как выл батюшка, наставляете,
– снова грохнули булыжники, – а в жизни совсем наоборот следоват, –
по-костромскому обрубая окончания, не унимался басовитый спорщик, –
такого поганца и в избу не надо пускат… Я б его…
– Вот и врешь! И ты бы пустил. Что ж ты, сына родного не пожалел бы? Нет, врешь, пожалел бы! Сын он.
– Ну, може пустил бы, – помягчали булыжники, – а перед тем поучил бы.
– Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил – любовью.
Твоя баба как корову к дойке приучает? Чтобы она, значит, стояла без
брыка? Как? Помоев ей соберет, да поставит… Так? Значит, угощенье ей,
любовь. А если боем?..
– Боем никак невозможно, – согласился булыжный бас, – от боя молоко пропасть могёт. Такого нельзя. Скотина, она тоже понимат…
– А ты человека, да еще сына родного ниже бездушной скотины располагаешь.
– Зачем ниже, – совсем притих басовитый, – душа, это, конечно… без души быть невозможно. А всё же…
– Ну тебя к… Слушать не даешь, – закричал кто-то из тесноты. – Дальше, поп, сказки крути!
– Ну, дальше пошло обыкновенно. Сели за стол, проздравили родителя.
Другому сыну обидно стало. "Что ж ты, говорит, папаня, сколько я на тебя
трудился, а ты меня не награждаешь, а его вон как уважил!"
– Конечно, обидно, – словно его самого обидели, прогудел бас.
– Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты, примерно, если рупь, там,
или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься? Обязательно
радуешься, хотя у тебя, кроме того рубля, может еще и десятка есть. А
найденный целковый против нее всё-таки веселее станет. Не было его – и
получился!
– Фарт! Ясно-понятно, веселей! – выкрикнул опять кто-то из гущи. – Потом что было? Крути, поп!
– Потом по-хорошему зажили. Все свои убытки вернули, овец приумножили
и прочей скотины… Это на другой стороне обрисовано. Овцы, там, козы… А
на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование.
В тесноте кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину.
– Пусти! Сейчас бумагу запалю, все увидят.
Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо
забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но втиснувшись
сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней –
затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни
фрески притчи о блудном сыне, писаной кистью какого-то давно ушедшего из
мира художника, рассмотреть я не смог.
И то и другое я увидел лишь на следующий день придя в обеденный
перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно
– полки верхних нар затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим (я узнал
уже его имя) сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь
узкое, как бойница окно собора, ударяло прямо ему в глаза. Старик
жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял лучу то одну, то
другую щеку, ласкался о луч и посмеивался.
– Вы ко мне за делом каким? Или так, для себя? – спросил он меня,
когда, бросив рассматривать фреску, я молча стал перед нарами. – Ко мне,
так садитесь рядком, чего на дороге стоять, людям мешать.
– Пожалуй, что к вам, батюшка, а зачем – caм не знаю.
– Бывает и так, – кивнул головой отец Никодим, – бредет человек, сам
пути своего не ведая, да вдруг наскочит на знамение или указание, тогда и
свое найдет. Ишь, солнышко-то какое сегодня! – подставил он всё лицо
лучу. Будто весеннее. Радость! – старик даже рот открыл, словно пил
струящийся свет вместе с толпою танцующих в нем пылинок. – Ты, сынок, из
каких будешь? По карманной части или из благородных?
– Ну, насчет благородства здесь, пожалуй, говорить не приходится. Каэр я, батюшка, контрреволюционер.
– Из офицеров, значит? Как же не благородный? Благородиями вас и
величали. Правильное звание. Без него офицеру существовать нельзя.
Сколько ж тебе сроку дадено?
– Десятка.
– Многонько. Ну, ты, сынок, не печалься. Молодой еще. Тебе и по скончании срока века хватит. Женатый?
– Не успел.
– И слава Богу. Тосковать по тебе некому. Родители-то, живы?
– Отец умер, а мать с сестрой живет.
– Опять хвали Господа, Значит, и тебе тоски нет: мамаша в покое, а
папашу Сам Господь блюдет. Ты и радуйся. Ишь, какой герой! Тебе только
жить да жить!
– Какому чорту тут радоваться в такой жизни!
Отец Никодим разом вывернулся из солнечного луча. Лицо его посерело, стало строгим, даже сердитым.
– Ты так не говори. Никогда так не. говори. От него, окаянного,
радости нету. Одна скорбь и уныние от него. Их гони! А от Господа –
радость и веселие.
– Хорошенькое веселье! Вот поживете здесь, сами этого веселья вдосталь нахлебаетесь. Наградил Господь дарами.
– Ну, и выходишь ты дурак! – неожиданно рассмеялся отец Никодим. –
Совсем дурак, хотя и благородный. А еще, наверное, в университете
обучался. Обучался ведь?
– Окончил даже, успел до войны.
– Вот и дурак. Высшие философские премудрости постиг, звезды и
светила небесные доставать умудрен, а такого простого дела, чтобы себе
радость земную, можно сказать, обыкновенную добыть, – этого не умеешь!
Как же не дурак?
– Да где она, эта обыкновенная радость? – ощетинился я. – Где? Вонь
одна, грязь, кровь с дерьмом перемешана – вот и всё, что мы видим. Кроме
ничего! И вся жизнь такая.
– Не видим, – передразнил меня отец Никодим, ты за других не говори.
Не видим!.. Ишь, выдумал что, философ. Ты не видишь, это дело
подходящее, а Другие-то видят. За них не ответствуй. Вот, к примеру:
родит иная баба немощного, прямо сказать, урода, слепого, там, или
хроменького… Над ней все скорбят: несчастная, мол, она, с таким дитем ей
одна мука… А оно, дитё это, для нее оказывается самый первый бриллиант.
Она его паче всех здоровых жалоствует и от него ей душе умиление. Вот и
радость. А ты говоришь – дерьмо. Нет, сынок, такое дерьмо превыше
нектара и всякой амброзии. Миро оно благовонное и ладан для души. Так и
здесь, хотя бы в моем приходе.
– Да какой же у вас теперь приход, батюшка? – засмеялся на этот раз
я. – Были вы священником, приход имели. Это верно. А теперь вы ничто, не
человек даже, а номер, пустота, нихиль…
– Это я-то нихиль?! – вскочил с нар отец Никодим. – Это кто же меня,
сына Господнего, творение Его и к тому же иерея может в нихиль, в ничто
обратить? Был я поп – поп и есть! Смотри, по всей форме поп!
Старик стал передо мной, расправил остатки пол своей перелатанной
всех цветов лоскутами ряски и поправил на голове беззвездную буденовку.
– Чем не поп? И опять же человек есмь, по образу и подобию Божьему
созданный. А ты говоришь – нихиль, пустота! – даже плюнул в сторону отец
Никодим. И прихода своего не лишен. Кто меня прихода лишал? Вот он мой
приход, вишь какой, – махнул он рукой на ряды нар, – три яруса на обе
стороны! Вот какой богатый приход! Такого поискать еще надо.
– Хороши прихожане, – съиронизировал я. – Что ж, они у вас исповедуются, причащаются? Обедни им служите?
– А как же? Врать тебе не буду: к исповеди мало идут, разве кто из
вашей братии да мужики еще. Но душами примыкают многие. И служу по
возможности.
– Здесь? В бараке?
– Здесь мы всего третий день. Еще не осмотрелись. А когда везли нас, служил.
– Разве вас не в "Столыпинском" вагоне везли? Не в клетках по-трое?
– В нем самом.
– Как же вы служили? Там, в этих клетках, и встать нельзя.
– Самая там служба, – залучился улыбкой старик и, снова всунув голову
в солнечную струю, прижмурил глаза, – там самая служба и была. Лежим
мы, по одну сторону у меня жулик, а по другую – татарин кавказский,
мухамед. Стемнеет, поезд по рельсам покачивает, за решеткой солдат
ходит… Тихо… А я повечерие творю: "Пришедши на запад солнце, видевши
свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа"… Татарин враз понял, что
хвалу Господу Создателю воздаем, хотя и по-русски совсем мало знал.
Уразумел и по-своему замолился. А жулик молчит, притулился, как заяц.
Однако, цыгарку замял и в карман окурок спрятал. Я себе дальше
молитствую: "От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и
спаси, Спасе мой… Святым духом всяка душа живится", а как дошел до
Великого Славословия (это я всё шепотом молил, татарин тоже тихо про
себя), на Славословии-то я и в полногласие вступил: "Господи Боже, Агнче
Божий, вземляй грех мира, приими молитву нашу". Тут и жулик
закрестился.
Так ежевечерне и служили все девять ден, пока в вагоне нас везли. Чем
тебе не приход? Господь обещал: во имя Его двое соберутся, там и Он
промеж них, а нас даже трое было… Мне же радость: пребываю в узилище,
повернуться негде, слова даже громко сказать боюсь, духом своим свободен
– с ближними им сообщаюсь воспаряюсь с ними.
– Ведь они не понимали вас, молитвы ваши.
– Как это так не понимали? Молились, значит, понимали. Ухом внимали и сердцем разумели.
– Я вчера ваш рассказ о блудном сыне здесь слушал. Верно, шпаны к вам
набралось много. Но они всегда так. И похабные сказки тоже слушать всю
ночь готовы, лишь бы занимательными были.
– А ты думаешь, ко Христу, человеколюбцу нашему, все умудренными шли?
Нет, и к нему такие же шли, одинаковые. Ничего они не знали. Думаешь,
они рассуждали: вот Господь к нам пришел, спасение нам принес? Нет,
браток. Прослышат, что человек необыкновенный ходит, слепых исцеляет,
прокаженных очищает, они и прут на него глазеть. Придут, сначала,
конечно, удивятся, а потом Слово Его услышат и подумают: стой, вот оно в
чем дело-то! Телесные глаза, конечно, каждому нужны, но, окромя них, и
духовное зрение еще существует. Как они это самое сообразят, то и сами
прозревать начнут. Вроде котят. И с проказой тоже: одному Он,
Человеколюбец, чудом ее с тела снимал, а сотням с душ словом своим. Так и
в Евангелии написано.
– Где же это там написано, батюшка? Я Евангелие читал, а этого не помню…
– Значит, плохо читал, – снова сердито буркнул старик, – на каждой страничке там это значится.
Отец Никодим встал с нар, сделал два шага в сторону, поправил
сбившуюся на затылок буденовку и потом снова обернулся ко мне. Теперь из
его глаз лился свет и словно стекал из них по лучащимся морщинкам,
струился по спутанной бороде и повисал на ней жемчужными каплями.
– Ты, дурашка, телесными глазами читал, а душевными-то в книгу святую
не заглядывал, – ласково проговорил он и погладил меня обеими руками по
плечам. – Ничего. Потому это так получилось, что ты, чуда прозрения не
видавши, сам не прозрел. Очищенных от проказы не зрил.
– Какие теперь чудеса, – с досадою отмахнулся я, – и прокаженных теперь нет. Исцелять некого.
– Нет? Нет говоришь? Прокаженных нет? – быстро зашептал, тесно лепя
слово к слову отец Никодим. Улыбка сбежала с его лица, но оно
по-прежнему лучилось ясным и тихим светом. – Ты не видал? Так смотри, –
повернул он меня за плечи к рядам трехъярусных нар, – кто там лежит? Кто
бродит? Они! Они! Все они прокаженные и все они очищения просят. Сами
не знают, что просят, а молят о нем бессловесно. И не в одном лишь
узилище, в миру их того больше. Все жаждут, все молят…
Лучащееся светом лицо старого священника стало передо мною и
заслонило от меня всё: и ряды каторжных нар, и копошащееся на них
человеческое месиво, и обгорелые, закопченные стены поруганного,
оскверненного храма…
Ничего не осталось. Только два глаза, опущенные редкими седыми
ресницами и на них, на ресницах – две слезы. Мутных старческих слезы.
– Вот он, приход мой, недостойного иерея. Его, Человеколюбца, приход,
слепых, расслабленных, кровоточивых, прокаженных, бесноватых и всех,
всех, чуда Его жаждущих, о чуде молящих.
Две мутные слезы спали с ресниц, прокатились по тропинкам морщин и,
повиснув на волосах бороды, попали в последний отблеск уходившего
зимнего солнца.
Зарозовели в нем, ожили двумя жемчужинами и растеклись.
Отец Никодим повернул мою голову к темной фреске, по которой тоже
стекали капли сгустившейся испарины, такие же мутные, как его слезы.
Скатывались и растекались. Рисунка уже совсем не было видно. На темном
фоне сырой стены едва лишь брезжили две ликующе вздетых руки обретшего
блудного сына отца. Только.
– Зри, прозри и возрадуйся! – шептал отец Никодим.
|